Mongoose
Меню сайта
Наш опрос
Каталог сайтов
| Главная » Каталог сайтов » Богословие |
| В категории сайтов: 48 Показано сайтов: 1-20 |
Страницы: 1 2 3 » |
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Переходам
История Вологодской епархии в 1943–1991 годы. Часть 5Вологодская епархия в 1980-е годы
Новый уполномоченный Совета по Вологодской области В.П. Николаев (на должности с 1976 по начало 1986 года) был другим человеком, более дружественным Церкви, нежели его предшественник, хотя вначале продолжал жестко контролировать церковную деятельность. В очень хороших отношениях он состоял с епископом Дамаскином, даже стал его духовным чадом, крестился, венчался, исповедался и причащался у него! Фантастическая ситуация для середины 1970-х годов! В.П. Николаев ходатайствовал перед Советом о награждении епископа Дамаскина медалью советского Фонда мира: «С приходом его в Вологодскую епархию в 1974 году отчисления денежных средств религиозных обществ в Фонд мира ежегодно увеличиваются. За пять последних лет они составили 1 миллион 791 тысяч рублей, что равно 26,3% денежных поступлений церквей за эти годы. Непосредственно епархиальное управление ежегодно в Фонд мира перечисляет 18–20 тысяч рублей. Епископ Дамаскин в проповедях на миротворческие темы призывает верующих к участию в пополнении советского Фонда мира, содействует этому патриотическому движению и в повседневной своей работе»[1]. Награда, однако, не состоялась. Необычным было то, что уполномоченный ходатайствует о награждении православного архиерея, в Вологодской епархии – уникальный случай за годы советской власти. В Москве знали, какие доверительные отношения сложились между ними, что и повлекло за собой перемещение епископа Дамаскина на Полтавскую кафедру 4 октября 1979 года. Уполномоченный переживал разлуку с ним, часто звонил ему перед тем, как принять важное решение. Очень жаль, что добрый архипастырь скончался довольно рано – 1 июля 1989 года в возрасте 52 лет, управляя Мукачевской епархией. |
История Вологодской епархии в 1943–1991 годы. Часть 4Деятельность комиссий по контролю за выполнением законодательства о религиозных культах в 1960–1970-х годах
Особенно сильный удар по Церкви был нанесен введением к лету 1962 года жесткого контроля над совершением треб: крещений, венчаний, отпеваний. Все они заносились в специальные книги с указанием фамилий, паспортных данных, адресов. Для крещения ребенка требовалось обязательное присутствие обоих родителей, а кое-где и письменные заявления, выдавались квитанции. Многочисленная комиссия по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах была сформирована и при Вологодском облисполкоме во главе с А.В. Кирилловым, заместителем председателя горисполкома. В нее входили секретарь горисполкома, учителя общеобразовательных школ, врачи, инспекторы гороно и горсо, депутаты горсовета, педагоги детских садов, библиотекари, врачи-акушеры. Каждому отводился определенный круг занятий: извещение парторганов, работа с двадцатками, певчими хоров, атеистическое воспитание учащихся школ, беседы с женщинами-роженицами, выявление причин совершения религиозных обрядов гражданами, изучение проповеднической деятельности Церкви, контроль за санитарным состоянием церквей и культового имущества. Центральными вопросами комиссии были учет крещений, отпеваний, венчаний, доходности церквей и прослушивание проповедей. Религиозная обрядность не спадала, несмотря на притеснения властей. В 1966 году в Вологде было крещено 469 человек из 2248 рожденных (20% к числу родившихся); в Великом Устюге – 256 детей из 706 родившихся (36%)[1]. |
Старчество в церковной традиции. Часть 8. Приходские священники — пастыри или старцы?
|
Старчество в церковной традиции. Часть 7. Русское старчество XIX века: новое или святоотеческое?
|
История Вологодской епархии в 1943–1991 годы. Часть 3Давление власти на религиозную жизнь в 1950–1960-е годы
К 1953 году направление работы уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви в Вологодской области окончательно изменило первоначальную форму. Из органа, регулирующего отношение Церкви и государства, он превратился в орган надзора. Еще больший контроль устанавливался с 1956 года[1]. В планы уполномоченного включаются вопросы по оценке деятельности духовенства и приходов, большое внимание уделялось продолжительности церковных служб. Такие инциденты случались и ранее, при И.М. Игнатове: «Было выявлено, что настоятель Каратыгин грубо нарушает “Положение об управлении Русской Православной Церкви” о том, чтобы уклад и распорядок приходской жизни не препятствовали выполнению прихожанам гражданских обязанностей, например в сельских местностях в период полевых работ, молотьбы, хлебопоставок; в прекрасную погоду 11 сентября в воскресенье Каратыгин служил в церкви до 12 часов дня, о чем мною устно было сообщено епископу Иустину, обещавшему дать указание по этому поводу всем церквям, чтобы настоятели не злоупотребляли временем колхозников и колхозниц в горячую уборочную пору»[2]. Усилилось давление гражданских властей на духовенство и мирян. Ужесточился контроль, и применялись различные меры административного и иного воздействия в отношении членов партии и комсомольцев, посещавших церковь, а также участвовавших в таинствах крещения, венчания и обрядах отпевания. |
История Вологодской епархии в 1943–1991 годы. Часть 2Духовенство Вологодской епархии в 1943–1953-е годы
И.М. Игнатова больше интересовала деятельность духовенства, в частности епархиального архиерея, нежели участие в процессах открытия церквей и различных скандалах, возникавших при отклонении заявлений. Он тщательно присматривался к епископу Гавриилу (Огородникову). В Русской Церкви второй половины ХХ века это был один из наиболее авторитетных и уважаемых архипастырей. Он родился 26 октября 1890 года в городке Солигаличе Костромской губернии. По окончании в 1908 году коммерческого училища поступил в училище военное. Первую мировую войну прошел офицером, был ранен. После войны выехал работать в Харбин, в Манчжурию, на Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). В 1926 году поступил в Российскую духовную миссию в Китае, изучал богословие и готовился к духовной деятельности. В 1930 году принял монашество и был рукоположен в иеродиакона, в 1933 году – в иеромонаха[1]. В 1943 году находился в Пекине в составе той же духовной миссии. С конца 1934 по 1938 год был настоятелем Михайло-Архангельской церкви в городе Дальнем (Дайрене). В то время православные епархии в Китае находились в подчинении Русской Православной Церкви Заграницей (Карловацкий Синод), которая не имела молитвенного общения с Русской Православной Церковью в России (Московская Патриархия). Но после победы Красной Армии над Германией и Японией большая часть иерархов Зарубежной Церкви, находившихся в Китае, в октябре 1945 года воссоединилась с матерью-Церковью. Вместе с ними воссоединилась и большая часть клириков этих епархий. Гавриил, в то время уже в сане архимандрита, в 1948 году был командирован делегатом от Русской духовной миссии в Китае в Москву на торжества по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. После торжеств, 29 августа, в Троице-Сергиевой лавре архимандрит Гавриил был хиротонисан в епископа Хабаровского и Владивостокского. Хиротония была совершена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием I, архиепископом Дмитровским Виталием (Введенским) и епископом Можайским Макарием (Даевым). 11 августа 1949 года владыка Гавриил был перемещен на Вологодскую кафедру. За время пребывания на Вологодской кафедре ему также поручалось временное управление Архангельской, Ижевской и Кировской епархиями. Архиепископ Гавриил организовал епархиальное управление, перевел всех священников на постоянные оклады, навел порядок в храмах епархии. За период его управления епархией не был закрыт ни один храм. Часто совершал богослужения, на которых присутствовало много верующих, в том числе молодежь, рукополагал в священный сан недостаточно «благонадежных», с точки зрения светской власти, кандидатов. Среди них будущий митрополит Николай (Кутепов) и архиепископ Михаил (Мудьюгин). |
История Вологодской епархии в 1943–1991 годы. Часть 1
|
|
| Источник | Святогорский устав церковного проследования. Издание Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002 |
| Со слов насельника Афона инока Илариона | |
| Монастыри | 20 монастырей на Афоне. Более 200 келий и еще более того колив (келий без церкви) |
| Главных монастырей – четыре: Великая лавра, Ватопед, Иверон, Хиландар | |
| Из одного из этих четырех (главного на данный год) назначается прот Афона | |
| Прот | Глава всех афонских монастырей. Избирается на год собранием и представительством в протате. Печать прота – совместное решение при участии всех четырех главных монастырей |
| Характер устава | Различная практика большинства афонских обителей и монастырей Филофеевского типа (Филофей, Ксиропотам, Констамонит, Каракал) |
| Византийское время: перевод часов с заходом солнца (заход = полночь, 0 часов) | |
| Большинству афонских обителей выделяются средства от Евросоюза через организацию «Кидак». Не принимают только монастыри: Констамонит (филофеевский), Зограф (болгарский) и Эсфигмен (не признают и не поминают Константинопольского патриарха) |
Древние иноческие уставы и современный опыт монастырской жизни.
|
| Источник | Феофан Затворник, святитель. Древние иноческие уставы. М., 1892 |
| Автор | Преподобный Венедикт |
| Монастыри | Для монастыря на горе Кассино |
| Характер устава | Больше внимания к внешнему устройству обители; описывает все, вплоть до мелких деталей |
|
О некоторых проблемах интерпретации наследия святителя Григория Паламы. [Рец. на: М.Ю. Реутин, Майстер Экхарт — Григорий Палама. К сопоставлению немецкой мистики и византийского исихазма]
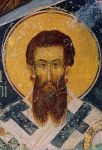 Продолжая дискуссию вокруг проблем интерпретации наследия святителя Григория Паламы, редакция предлагает Вашему вниманию рецензию постоянного автора портала Богослов.Ru монаха Диодора (Ларионова). Продолжая дискуссию вокруг проблем интерпретации наследия святителя Григория Паламы, редакция предлагает Вашему вниманию рецензию постоянного автора портала Богослов.Ru монаха Диодора (Ларионова).Публикация столь серьезной и самостоятельно проведенной работы, основанной на изучении источников в оригинале, пока еще редкость на сайте Богослов.ру. Симптоматично, что автор работы - светский ученый, специалист по средневековой философии. Не в последнюю очередь этим обстоятельством обусловлен методологический подход автора к рассматриваемой проблеме: сравнительный анализ учений двух выдающихся богословов XIV века - св. Григория Паламы на христианском Востоке и Майстера Экхарта на христианском Западе, - выявляющий наличие общих черт в их богословских интуициях, ориентируется прежде всего на исследование философского фона XIV века и опирается, в частности, на концепцию неоплатонических истоков средневековой мистики. Данный анализ показывает, как говорит автор, «генеалогические родство двух, восточного и западного, неоплатоновских течений». Не говоря уже о том, что для российской науки данное направление является новым и автор здесь, собственно говоря, в некотором роде первопроходец (почему в некотором роде - см. ниже), сама постановка такой задачи в широком научном контексте представляется весьма актуальной, поскольку способствует, как прекрасно говорит сам автор, «обновлению знания», «ревизии устоявшихся представлений, их переводу из разряда общих мест-аксиом в разряд проблем...». Это особенно актуально и для тех, кто изучает историю богословия, так что появление такой статьи на богословском сайте можно только приветствовать. В конце своей статьи автор, М.Ю. Реутин, настаивает на том, что его работа «включает в себя в качестве обязательного компонента стороннюю критику и уточнения». В своей заметке я хотел бы представить некоторые уточнения, которые будут относиться в первую очередь к византийскому исихазму и св. Григорию Паламе; Майстер Экхарт будет использоваться мной только в той мере, в какой он цитируется в рецензируемой статье. Также хотелось бы отметить, что данные заметки не являются всесторонней рецензией, поскольку таковая требует более глубокого и серьезного анализа. И конечно предлагаемые уточнения не претендуют на окончательность: автор вправе принять их, либо совершенно проигнорировать. |
|
PRO DOMO SUA: Несколько слов о Православии и национальном патриотизме
 Кто мы: патриоты своей земли или граждане неба? Может ли христианин любить свою родину – и какова мера этой любви? Об отечестве земном и Отечестве Небесном размышляет монах Диодор (Ларионов), православный издатель и переводчик. Его очерк о «православном патриотизме» – это лишь первая часть диптиха, посвященного участию Церкви в жизни современного общества. Вскоре будет опубликована и вторая часть, посвященная социальному служению Церкви. Кто мы: патриоты своей земли или граждане неба? Может ли христианин любить свою родину – и какова мера этой любви? Об отечестве земном и Отечестве Небесном размышляет монах Диодор (Ларионов), православный издатель и переводчик. Его очерк о «православном патриотизме» – это лишь первая часть диптиха, посвященного участию Церкви в жизни современного общества. Вскоре будет опубликована и вторая часть, посвященная социальному служению Церкви.Человек есть по природе существо общественное (ζῷον κοινωνικόν)[1]. Он может полноценно жить и реализовывать свои способности только в обществе других людей. С древнейших времен люди объединялись в родовые, а затем племенные союзы, которые со временем эволюционировали в более совершенную форму социальной жизни, получившую название государства. Важнейшим идеологическим фундаментом, на котором стоит всякое государство, является патриотизм. Патриотизм — понятие многозначное: его семантическое поле включает в себя, с одной стороны, простую любовь к месту, где человек родился и вырос, а с другой стороны — идею национальной общности и единства. Это второе значение, собственно говоря, и придает понятию патриотизм идеологическое содержание (в таком случае его можно называть гражданским патриотизмом). Однако патриотическая идеология не смогла бы существовать «на пустом месте»: для своей жизнестойкости она использует, так сказать, «живое мясо», то есть свойства человеческой природы, благодаря которым человек естественным образом любит свою родину. Таким образом, содержанием гражданского патриотизма является любовь простых граждан к своей родине, к своему земному отечеству, а его теоретическим развитием является идея государственного и общественного единства народа. |
|
Аскетическое богословие старца Иосифа Ватопедского — Часть 4: домостроительное дело Сына Божия
«Опытное богословие» старца Иосифа Ватопедского строится на учении о домостроительстве спасения, поскольку аскетическое делание человека является откликом на спасительное дело Господа Иисуса Христа.
Домостроительство спасения
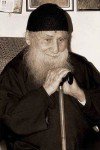 Слово «домостроительство» происходит от греческого слова οἰκονομία, обозначающего буквально обустройство жилища, заботу об управлении домашним хозяйством. На языке святоотеческого богословия «домостроительство» стало обозначать учение о Боге в Его отношении к миру, в отличие от понятия «богословие», которое в своем первоначальном значении относилось исключительно к учению о Боге в Его вечном и неизменном бытии. Для Отцов Церкви богословие есть по преимуществу «богословие Троицы», тогда как домостроительство есть богословие явления Троицы творению, Ее неизреченное «снисхождение»(συγκατάβασις) в мир в заботе о его спасении, деятельность Бога в истории. Спасительное домостроительство Божие рассматривается Святыми Отцами в двух аспектах: домостроительство Сына, пришедшего во плоти и «соделавшего» спасение нашей природы, и домостроительство Святого Духа, посланного в мир осуществить задачу спасения каждого отдельного человека. Слово «домостроительство» происходит от греческого слова οἰκονομία, обозначающего буквально обустройство жилища, заботу об управлении домашним хозяйством. На языке святоотеческого богословия «домостроительство» стало обозначать учение о Боге в Его отношении к миру, в отличие от понятия «богословие», которое в своем первоначальном значении относилось исключительно к учению о Боге в Его вечном и неизменном бытии. Для Отцов Церкви богословие есть по преимуществу «богословие Троицы», тогда как домостроительство есть богословие явления Троицы творению, Ее неизреченное «снисхождение»(συγκατάβασις) в мир в заботе о его спасении, деятельность Бога в истории. Спасительное домостроительство Божие рассматривается Святыми Отцами в двух аспектах: домостроительство Сына, пришедшего во плоти и «соделавшего» спасение нашей природы, и домостроительство Святого Духа, посланного в мир осуществить задачу спасения каждого отдельного человека. В практическом богословии старца Иосифа тема домостроительства занимает, безусловно, центральное место. Ведь практическая жизнь - это человеческий отклик на божественное домостроительство, совершающееся в наших личностях силой Благодати Святого Духа; это добровольное соучастие человека в творческом акте Бога, осуществляющего Свои превечные «замыслы» и «советы» о судьбе тварного мира. Никакая практическая духовная жизнь была бы невозможна без домостроительного дела Пресвятой Троицы - практика начинается и завершается в Боге; можно сказать, что божественное домостроительство есть не просто условие, но смысл и цель, сердце практической жизни христианина. Практическое делание, о котором говорит старец Иосиф, - это личный опыт человека в возделывании и хранении рая (ср. Быт. 2, 15) в своем собственном сердце. А рай означает присутствие Благодати, то есть Самого Бога, действующего в своих энергиях, через которые Он осуществляет домостроительство нашего спасения. |
|
Аскетическое богословие старца Иосифа Ватопедского — Часть 3: богоуподобление через богоподражание
 О «подражании Христу» писали и Отцы Православной Церкви и католические мистики. Как достичь обожения через подражание Богочеловеку или Его святым по учению старца Иосифа Ватопедского, — об этом пойдет речь в третьей части статьи, посвященной «опытному богословию» святогорского старца. О «подражании Христу» писали и Отцы Православной Церкви и католические мистики. Как достичь обожения через подражание Богочеловеку или Его святым по учению старца Иосифа Ватопедского, — об этом пойдет речь в третьей части статьи, посвященной «опытному богословию» святогорского старца.«Закон подражания» Наш дух по природе стремится к познанию, благодаря чему он «естественно» обращается к самопознанию и богопознанию. Мы видели, что осознанное стремление человека вернуть свое прежнее достоинство и местоположение влечет его к изменению ума, который, видя, в чем его истинное благо, собирает все способности души и тела в едином порыве к Богу. Одной из главных способностей нашего ума является способность к разумному суждению, посредством которой мы мыслим и действуем. Но кроме этой способности, человеческая природа обладает другим важным средством, в не меньшей степени влияющим на ее изменение и совершенствование. Это способность к подражанию, заложенная в самом существе человеческого духа, созданного «по образу и подобию» Бога. В богословии старца Иосифа тема подражания занимает одно из центральных мест, являясь ключевым звеном в его характеристике нравственно-этической стороны подвижнического делания.
Именно возможность уподобления человека Богу лежит в основании его способности к подражанию. Человеческий дух, подражающий своему идеалу, изменяется по образу того, кому он подражает. Присущую человеку способность уподобления своему идеалу старец Иосиф называет «законом подражания», который проявляется во всех сферах человеческой жизни. Этот закон соотносится с другим законом, называемым «законом воздействия». Старец Иосиф говорит: «В нас, в наших характерах, часто обнаруживаются виды и обличья того, что нас окружает: мы в этом смысле напоминаем зеркала, отражающие на своей поверхности то, что находится напротив»[a]. Это означает, что человек подвержен влиянию окружающего настолько, что его внутренний мир формируется благодаря этому влиянию. Таким образом «закон воздействия» оказывает на нас влияние независимо от нашей воли, потому что человеческая природа подвержена изменениям и стремится уподобиться тому, что находится рядом с ней. С другой стороны, «закон подражания» является нашим внутренним импульсом, благодаря которому мы сами подражаем тому, что оказывает на нас влияние. |
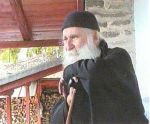 Начало пути богопознания — покаяние, метанойа, изменение своего ума. О том, какие состояния человеческой природы знает православная антропология, а также о том, что в человеке может и должно измениться при принесении покаяния, рассказывается во второй части статьи, посвященной учению старца Иосифа Ватопедского. Начало пути богопознания — покаяние, метанойа, изменение своего ума. О том, какие состояния человеческой природы знает православная антропология, а также о том, что в человеке может и должно измениться при принесении покаяния, рассказывается во второй части статьи, посвященной учению старца Иосифа Ватопедского. Самопознание как начало покаяния Начало пути богопознания, имеющего целью соединить человека с Богом в единой богочеловеческой жизни, лежит, согласно старцу Иосифу, в древней мудрости: познай себя (γνῶθι σεαυτόν)[a]. «Откуда мы и куда идем?» - этот вопрос выражает общую экзистенциальную тоску современного человека.
Действительно, мы видим, что человек, желающий уяснить себе суть какого-либо явления или события, стремится первым делом понять его конечное назначение, а следовательно и причину его возникновения. Определив это, человек познает таким образом истинное местоположение вещи в реальности бытия, то есть ее смысл и цель. Иными словами, человек может решить проблему того или иного события через приведение его внешне случайного существования к истинному местоположению и назначению. |
|
Аскетическое богословие старца Иосифа Ватопедского — Часть 1: путь опытного богопознания
 Какие препятствия и подводные камни ожидают подвижника — монаха и мирянина — на пути духовного совершенствования? Каковы этапы этого пути? О «маршруте» духовной жизни, предлагаемом современным Афоном, рассказывается в четырехчастной статье, посвященной творчеству одного из отцов возрождения святогорского монашества — старца Иосифа Ватопедского. Какие препятствия и подводные камни ожидают подвижника — монаха и мирянина — на пути духовного совершенствования? Каковы этапы этого пути? О «маршруте» духовной жизни, предлагаемом современным Афоном, рассказывается в четырехчастной статье, посвященной творчеству одного из отцов возрождения святогорского монашества — старца Иосифа Ватопедского. Старец Иосиф уже много лет является духовным наставником братии Ватопедского монастыря. Его монашеский путь начался на о. Кипр, где старец родился и где, в монастыре Ставровуни, принял монашеский постриг. Пробыв в этом монастыре несколько лет, о. Иосиф, по благословению старцев Обители, отправился на Святую Гору. Там он встретился с великим подвижником нашего времени старцем Иосифом Исихастом (1898-1959), знакомство с которым превратилось в многолетнее ученичество и принесло обильный духовный плод. Старец Иосиф Исихаст, будучи человеком высокой духовной жизни, имел, кроме всего прочего, и дар учительства: без преувеличения можно сказать, что несколько монахов, его учеников, стали у истоков духовного возрождения всего святогорского монашества. Старец Иосиф Ватопедский - это один из немногих духовных наставников, кто цепью преемственной связи соединяет поколение нынешнего монашества с уже отшедшими великими подвижниками, достигшими высот святости.
Вот уже в течение многих лет Ватопедский монастырь издает духовные книги в общей серии: Ψυχωφελῆ Βατοπαιδινά - «Ватопедская душеполезная библиотека». Эта библиотека (в ней издано уже 18 книг, старец Иосиф является автором 15-ти из них) представляет собой изложение святогорского духовного опыта, который освящен многими поколениями монашествующих, подвизавшихся в Ватопедской Обители. Достаточно упомянуть, что в «Ватопедский Синаксарь» вошли жизнеописания 66-ти святых, живших в Ватопеде[a]. Начало этой серии было положено старцем Иосифом, книги которого вдохновлены самой атмосферой святогорского монашеского государства с его многовековой традицией смиренного жития в послушании и ученичестве у богоносных наставников, которыми никогда не оскудевал Афон. |
Древние иноческие уставы и современный опыт монастырской жизни.
|
| Источник | Феофан Затворник, святитель. Древние иноческие уставы. М., 1892 |
| Наименование | Правила, собранные Венедиктом Анианским |
| Авторы | Святые Серапион, Макарий, Пафнутий и другие 34 старца |
|
Старчество в церковной традиции. Часть 6. Когда старчество появилось на Руси?
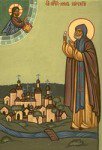 В историографии закрепилось мнение, что старческое руководство приходит на Русь довольно поздно: не ранее XV, а возможно — и XVIII века[1]. Так, например, И.К. Смолич предлагает вести отсчет истории русского старчества от преподобного Нила Сорского (†1508). Столь позднее его начало обусловлено отсутствием прямых свидетельств о бытовании старчества на Руси в предшествующий период. Историк прямо пишет об этом в своем труде: В историографии закрепилось мнение, что старческое руководство приходит на Русь довольно поздно: не ранее XV, а возможно — и XVIII века[1]. Так, например, И.К. Смолич предлагает вести отсчет истории русского старчества от преподобного Нила Сорского (†1508). Столь позднее его начало обусловлено отсутствием прямых свидетельств о бытовании старчества на Руси в предшествующий период. Историк прямо пишет об этом в своем труде:«Богатый материал по истории монастырей Древней Руси содержит, к сожалению, слишком мало из того, что нам нужно, чтобы понять, каковы основные формы старчества и пути аскетического воспитания. Рассказы о святых и уставы монастырей не позволяют пролить свет на этот вопрос. Даже в житии прп. Сергия Радонежского (†1392), который был самой значительной личностью своего времени, прямо не указывается, было ли в его монастыре старчество как сформировавшееся явление»[2]. |
|
Старчество в церковной традиции. Часть 5. Старец и ученик
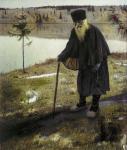 Почти все древние памятники аскетической письменности, посвященные старческой практике, уделяют немалое внимание действиям и настроениям ученика. Даже процитированное выше наставление Оригена обращено, прежде всего, к потенциальному последователю духовного руководителя и описывает его действия. Действия эти проходят через два больших этапа. И в этом едины все отцы-аскеты, так или иначе касавшиеся темы духовного руководства. Суть первого этапа — в поиске старца, порой долгом и трудном, с полным сознанием ответственности совершаемого выбора. После же того, как выбор сделан, начинается второй этап. Он заключается во всецелом послушании избранному наставнику, послушании «даже до смерти»[1]. При этом на первом этапе для ученика главное найти такого старца, который был бы опытен во врачевании его (ученика) страстей. Можно сказать, ученику надлежит уловить и своим выбором выявить родство собственного внутреннего устроения и внутреннего устроения старца. На это указывает уже цитировавшийся выше преподобный Иоанн Лествичник: Почти все древние памятники аскетической письменности, посвященные старческой практике, уделяют немалое внимание действиям и настроениям ученика. Даже процитированное выше наставление Оригена обращено, прежде всего, к потенциальному последователю духовного руководителя и описывает его действия. Действия эти проходят через два больших этапа. И в этом едины все отцы-аскеты, так или иначе касавшиеся темы духовного руководства. Суть первого этапа — в поиске старца, порой долгом и трудном, с полным сознанием ответственности совершаемого выбора. После же того, как выбор сделан, начинается второй этап. Он заключается во всецелом послушании избранному наставнику, послушании «даже до смерти»[1]. При этом на первом этапе для ученика главное найти такого старца, который был бы опытен во врачевании его (ученика) страстей. Можно сказать, ученику надлежит уловить и своим выбором выявить родство собственного внутреннего устроения и внутреннего устроения старца. На это указывает уже цитировавшийся выше преподобный Иоанн Лествичник:«По качествам страстей наших должно рассуждать, какому руководителю отдаться нам в повиновение <...> должно искать <...> руководителей <...> по нраву и местопребыванию своему приличных нашим недугам»[2]. |
Древние иноческие уставы и современный опыт монастырской жизни.
|
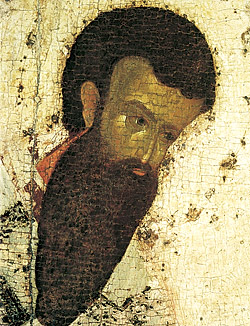 |
.
| Источник | Феофан Затворник, святитель. Древние иноческие уставы. М., 1892 |
| Наименование | Устав монастырей в Понте |
| Авторы | Из писем святителя Василия Великого (пять книг трудов) |
| Из Окружного письма святителя Василия Великого (366) | |
| Монастыри | Все монастыри Понта на берегу реки Иры, напротив женской обители матери и сестры святителя |
| Для монашества Каппадокии | |
| Характер устава | Устав писал святитель Василий все время пребывания в Понте |
Древние иноческие уставы и современный опыт монастырской жизни. Часть 5
|




















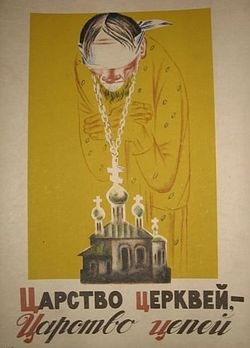

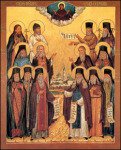 Старчество как христианская аскетическая практика появилось в древности, но в каждую историческую эпоху приобретало особенные, только ему свойственные черты. Выше мы видели, что появление некоторых исключительных для восточно-христианского старчества черт (в частности, появление наставника-мирянина и белого священника) имело место внутри русской аскетической традиции в XIX веке. Чем же можно объяснить эту особенность русского старчества указанного периода? Впервые эта проблема со всей отчетливостью была поставлена В.И. Экземплярским. Русское старчество, писал он, не похоже на восточное, оно слишком вдвинуто в мир, слишком связано с ним:
Старчество как христианская аскетическая практика появилось в древности, но в каждую историческую эпоху приобретало особенные, только ему свойственные черты. Выше мы видели, что появление некоторых исключительных для восточно-христианского старчества черт (в частности, появление наставника-мирянина и белого священника) имело место внутри русской аскетической традиции в XIX веке. Чем же можно объяснить эту особенность русского старчества указанного периода? Впервые эта проблема со всей отчетливостью была поставлена В.И. Экземплярским. Русское старчество, писал он, не похоже на восточное, оно слишком вдвинуто в мир, слишком связано с ним:

 История Русской Церкви советского периода является, прежде всего, историей гонения на веру. Накал антицерковной борьбы властей то утихал, то разгорался с новой силой. Сталинские репрессии 1930-х годов унесли жизни сотен тысяч православных священнослужителей и мирян. В это время были закрыты многие храмы, упразднены монастыри, разрушена система духовного образования, миллионы книг и икон разграблены, уничтожены или перепроданы за границу. В Вологодской епархии в современных границах действовало около 900 храмов и 22 монастыря. К 1 января 1943 года на территории в 145,7 тыс. км2 остались лишь две зарегистрированные действующие церкви: кафедральный собор Рождества Богородицы в Вологде (богослужения совершались на первом этаже собора; это единственный храм в епархии, который никогда не закрывался) и церковь Покрова Богородицы в Кичменгском Городке, снятая с регистрации уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по Вологодской области И.М. Игнатовым в 1944 году (длительное время простаивала без служб; уполномоченный имел право закрыть церковь, на языке закона – «снять с регистрации», если богослужения во вновь открытой церкви совсем не возобновлялись или не проводились в течение шести месяцев). Все монастыри были закрыты, превращены в музеи (Кирилло-Белозерский, Ферапонтов монастырь с уникальными фресками Дионисия 1503 года, Троице-Гледенский и др.), в тюрьмы (Кирилло-Новоезерский; там и теперь тюрьма строгого режима для тех, кто отбывает пожизненный срок); от некоторых не осталось и следа (Леушинский женский монастырь, который по численности сестер был уподобляем Дивеевской и Шамординской обителям, закрыт в январе 1930 года; затоплен Рыбинским водохранилищем в 1941–1947 годах)
История Русской Церкви советского периода является, прежде всего, историей гонения на веру. Накал антицерковной борьбы властей то утихал, то разгорался с новой силой. Сталинские репрессии 1930-х годов унесли жизни сотен тысяч православных священнослужителей и мирян. В это время были закрыты многие храмы, упразднены монастыри, разрушена система духовного образования, миллионы книг и икон разграблены, уничтожены или перепроданы за границу. В Вологодской епархии в современных границах действовало около 900 храмов и 22 монастыря. К 1 января 1943 года на территории в 145,7 тыс. км2 остались лишь две зарегистрированные действующие церкви: кафедральный собор Рождества Богородицы в Вологде (богослужения совершались на первом этаже собора; это единственный храм в епархии, который никогда не закрывался) и церковь Покрова Богородицы в Кичменгском Городке, снятая с регистрации уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по Вологодской области И.М. Игнатовым в 1944 году (длительное время простаивала без служб; уполномоченный имел право закрыть церковь, на языке закона – «снять с регистрации», если богослужения во вновь открытой церкви совсем не возобновлялись или не проводились в течение шести месяцев). Все монастыри были закрыты, превращены в музеи (Кирилло-Белозерский, Ферапонтов монастырь с уникальными фресками Дионисия 1503 года, Троице-Гледенский и др.), в тюрьмы (Кирилло-Новоезерский; там и теперь тюрьма строгого режима для тех, кто отбывает пожизненный срок); от некоторых не осталось и следа (Леушинский женский монастырь, который по численности сестер был уподобляем Дивеевской и Шамординской обителям, закрыт в январе 1930 года; затоплен Рыбинским водохранилищем в 1941–1947 годах) Древние иноческие уставы и современный опыт монастырской жизни.
Древние иноческие уставы и современный опыт монастырской жизни.  УСТАВ ПРЕПОДОБНОГО ВЕНЕДИКТА
УСТАВ ПРЕПОДОБНОГО ВЕНЕДИКТА 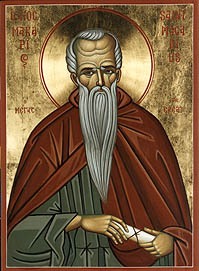 УСТАВ ЕГИПЕТСКИХ ОТЦОВ
УСТАВ ЕГИПЕТСКИХ ОТЦОВ  Приведем основные монастырские уставы, рассмотренные нами, в виде систематизированных таблиц. Такая форма подачи материала позволяет наиболее наглядно продемонстрировать особенности правил разных авторов и их сходство в главных темах. Пользующийся таблицами уставов имеет возможность сравнить их по интересующим его темам и таким образом выбрать наиболее подходящий для себя вариант решения вопроса. Так, желающий составить правила жизни для своей обители или соотнести разные вопросы с решениями преподобных отцов, может сделать это на одном экране (к интерактивной форме электронных таблиц можно перейти
Приведем основные монастырские уставы, рассмотренные нами, в виде систематизированных таблиц. Такая форма подачи материала позволяет наиболее наглядно продемонстрировать особенности правил разных авторов и их сходство в главных темах. Пользующийся таблицами уставов имеет возможность сравнить их по интересующим его темам и таким образом выбрать наиболее подходящий для себя вариант решения вопроса. Так, желающий составить правила жизни для своей обители или соотнести разные вопросы с решениями преподобных отцов, может сделать это на одном экране (к интерактивной форме электронных таблиц можно перейти